ФРЭНК ВУЛВОРТ. ЦЕНТЫ, СТАВШИЕ МИЛЛИОНАМИ
 16 марта, 2016
16 марта, 2016  Mihail Maikl
Mihail Maikl  В Америке словосочетание «Woolworth» давно перестало означать фамилию, а превратилось в некий знаковый символ, узнаваемую примету жизни. Еще недавно почти в каждом городе, большом или малом, и, как правило, на главной улице издалека был виден магазин с этой надписью на фронтоне. Каждый житель знал, что здесь всегда найдется недорогой и добротный товар, нужный не для фешенебельного светского раута, а для скромной повседневности. Но далеко не всем известна история уникальной всеамериканской (а потом и всемирной) торговой фирмы, у истоков которой стоял один человек, наделенный даром генерировать идеи и претворять их в жизнь. Его судьба напоминает осуществление столь излюбленной на этой земле сказки-мечты, когда бедный провинциальный юноша, настойчивый и удачливый, покоряет вершину финансового Олимпа. А началась эта сага о семейном богатстве, возникшем из «ничего», почти сто пятьдесят лет назад...
В Америке словосочетание «Woolworth» давно перестало означать фамилию, а превратилось в некий знаковый символ, узнаваемую примету жизни. Еще недавно почти в каждом городе, большом или малом, и, как правило, на главной улице издалека был виден магазин с этой надписью на фронтоне. Каждый житель знал, что здесь всегда найдется недорогой и добротный товар, нужный не для фешенебельного светского раута, а для скромной повседневности. Но далеко не всем известна история уникальной всеамериканской (а потом и всемирной) торговой фирмы, у истоков которой стоял один человек, наделенный даром генерировать идеи и претворять их в жизнь. Его судьба напоминает осуществление столь излюбленной на этой земле сказки-мечты, когда бедный провинциальный юноша, настойчивый и удачливый, покоряет вершину финансового Олимпа. А началась эта сага о семейном богатстве, возникшем из «ничего», почти сто пятьдесят лет назад...
Несколько поколений Вулвортов не знало иного занятия, кроме изматывающего фермерского труда, хотя основатель рода, прибывший в Новый Свет в числе других первопоселенцев, был ткачом и не без основания носил стариннейшую фамилию Wooley, восходящую к староанглийскому слову, означающему «шерстяная ткань». Время и американская языковая среда основательно потрудились над фамилией, добавив к ней окончание «worth» (достойный), которое и через два столетия вполне отвечало положению семьи фермера Джона Вулворта, но
только в смысле — достойная бедность. Крошечное хозяйство размещалось на северо-западе штата Нью-Йорк в городке Грейт-Бенд, недалеко от границы с Канадой. Только что завершившаяся Гражданская война привела к тому, что замерла деловая активность, свернулась торговля. Чтобы свести концы с концами, все члены семьи — Джон с женой и двое сыновей (Фрэнк, родившийся в 1852 году, и Чарльз, который был моложе брата на четыре года) — с утра до ночи, в мороз и ненастье, были заняты уходом за скотом, выращиванием овощей или заготовкой бревен. И все затем, чтобы плоды своих однообразных и тяжелых трудов — молоко, картофель, связки поленьев — отвезти в выходной день на тощей лошаденке за десять миль, в Уотертаун, главный город графства. И далеко не всегда возвращались они на пустой телеге. Для Фрэнка каждая такая поездка становилась событием. Еще бы, «столица»! Десять тысяч жителей— это цифра! И наверное, все они фланировали по главной улице, протянувшейся от банка до похоронного бюро, а посередке — мануфактурный магазин, в который впархивали расфранченные дамы, словно сбежавшие с картинок в детских книжках. Дома Фрэнк с братом устраивал развеселые игры «в магазин», даже не подозревая, что ему суждено «заиграться» этим на целую жизнь. Впрочем, была еще одна тема для детских фантазий, вдохновленных полу - легендами соседних мест.
Совсем рядом с Грейт-Бендом, на берегу извилистой реки, стоял заброшенный замок, принадлежавший всего за двадцать лет до этого старшему брату Наполеона Жозефу Бонапарту. Экс-король Неаполя и Испании после поражения императора Франции под Ватерлоо эмигрировал в Америку вместе с богатством и именем, поселившись в роскошной усадьбе в Нью-Джерси, а замок построил для своей возлюбленной Энни Сэвидж. В покоях его ждали нега и наслаждения, а в окружающих угодьях — охота в компании друзей или рыбная ловля с борта подлинной венецианской гондолы. Сохранились сведения, что среди знатных «рыбаков-охотников» зрел заговор похищения Наполеона с острова Святой Елены, и для него поблизости, на мысе Винсент, даже построили дом. То ли заговорщики были просто романтиками, то ли подоспела смерть опального императора, но никакого побега узника не случилось, а Жозеф Бонапарт еще много лет бесхлопотно прожил на американской земле, оставив после себя славу доброго и доступного человека. Да еще — развалины замка, на входных воротах которого сохранились наполеоновский герб и корсиканский крест. Часто стоял перед ними мечтательный мальчик из соседнего хутора Фрэнк Вулворт, воображая исторических персонажей, дух которых витал над этими руинами. Память о детских впечатлениях останется с ним до конца дней, превратившись в то, что не только недруги, но и доброжелатели позднее назовут «наполеоновским комплексом».
Школа, а затем два семестра в коммерческом училище в Уотертауне не перегрузили его знаниями, если не считать азов бухгалтерии. После безуспешных попыток устроиться в «уездном» городе Фрэнк бесславно возвращается на отцовскую ферму, чтобы снова, год за годом, двигаться по замкнутому и изрядно опостылевшему кругу: хлев-корма-огород-ры- нок. В двадцать один год он понял, что пришло время побега. В город! С рекомендацией местного торговца Фрэнк постучал в дверь того самого уотертаунского мануфактурного магазина. Его владелец Уильям Мур был немногословен: «Куришь? Выпиваешь? Так, завтра приступаешь к работе. Делать придется все — помогать за прилавком, мыть окна, полы, убирать, разгружать коробки». — «Я согласен, сэр. А как насчет оплаты?» — «Оплаты? По-моему, за учебу должен платить сам ученик. Но я с тебя не возьму ничего». Фрэнк только и нашелся, что спросить: « И долго так будет?» — «Шесть месяцев», — был ответ.
Прошла только половина испытательного срока, и он получил свой первый заработок — три с половиной доллара в неделю, через год — четыре пятьдесят, а после двух лет работы и вовсе почувствовал себя набобом — шесть долларов, то есть по доллару в день. Теперь без помощи из дома Фрэнк мог оплачивать жилье, приодеться и даже иногда посылать подарки родителям и брату. Решив, что опыта он уже поднабрался, юноша принял приглашение хозяина другого городского магазина, предложившего существенное повышение — десять долларов в неделю. И совершил ошибку, от подобных которой в дальнейшем интуиция часто его избавляла. Не приглянулся владельцу новый продавец, больше времени проводивший не за традиционным прилавком, а меняя выкладку товаров в витринах или украшая ярлыки. Последовало сокращение зарплаты на четверть, что повергло чувствительного Фрэнка в глубочайшую депрессию, залечивать которую он вернулся на семейную ферму. Неизвестно, чем бы обернулось его болезненное состояние, но спасение пришло в облике миловидной голубоглазой канадки Женни Крайтон, оказавшейся в Г рейт - Бенде в поисках заработка шитьем. Мать Фрэнка, не успевавшая справляться с хозяйством, пригласила ее помочь в ухаживании за слегшим в постель сыном.
Нежное лечение завершилось в 1876 году скромной свадьбой в маленькой гостиной фермерского дома. Пока молодожены размышляли о том, где бы раздобыть денег на собственную хижину, неожиданно пришло письмо от Уильяма Мура, звавшего Фрэнка вернуться в магазин. И первый семейный переезд состоялся. Впоследствии их будет множество. Свежим взглядом Вулворт оглядел свое место службы, и многое показалось ему рутинным и устаревшим. Продавцы, полные собственной значительности, возвышались за прилавком, почти прикрывая спинами товары. Покупатели показывали на них или называли, и лишь тогда их доставали с полки. «Свободные» цены приводили к долгим препирательствам, не всегда заканчивавшимся соглашением. Казалось, этот порядок незыблем. Но случилось поворотное событие в судьбе Фрэнка, внешне выглядевшее малозначительным. В магазине скопились «неликвиды», которые было решено выставить на продажу по одинаково низкой цене. На открытом прилавке Фрэнк разложил кастрюли, черпаки и раковины, а над ними закрепил плакат: «Любой предмет стоит 5 центов». Через несколько часов прилавок был пуст, а молодой продавец захвачен простотой новой торговой идеи. Он должен открыть свой собственный пятицентовый магазин!
Но где? Родной Грейт-Бенд был слишком мал, а в Уотертауне он не хотел конкурировать с Муром, которого считал своим доброжелательным учителем. Оставив вместо себя за прилавком брата Чарльза, Фрэнк объездил ближние города штата в поисках подходящего помещения. Свой выбор он остановил на Ютике, довольно заметном в то время центре (почти тридцать тысяч жителей). Открытие магазина было подготовлено со всей тщательностью, снаружи и внутри чистота слепила глаза, двое мальчишек расклеили по городу плакаты. И поначалу казалось, что замысел удался. Но прошло несколько дней, и покупатели, привлеченные было необычным торговым новшеством, стали возвращаться к своим традиционным покупкам, хотя и более дорогим. Еще три месяца — и случившееся следовало признать полным провалом. Но не самой идеи! — был убежден Вулворт. Значит, что-то было «не так» в комбинации «покупатели — товары». И в самом деле, он не изучил тонкости социального среза Ютики, не удостоверился в оптимальности выбора улицы для магазина. А самое главное — не сработала изюминка его замысла: выбор предметов за пять центов оказался весьма ограниченным.
Следующий шаг Фрэнка уже был безошибочным. Место— город Ланкастер штата Пенсильвания. Он учел, что значительный процент населения здесь, а также в фермерской округе составляли религиозные группы выходцев из Германии, Голландии и Англии (амиши, квакеры),— люди бережливые, знавшие цену каждому центу. Это были «его» покупатели. И предложит он им большой ассортимент кухонной утвари, домашних мелочей, словом, «всякой всячины», а цены отныне и навсегда будут только двух видов: пять и десять центов. В течение всей жизни он ни разу не изменит этому постулату. Чтобы арендовать помещение на людном перекрестке, спять квартиру для себя, Женни и одиннадцатилетней дочери Хэлины (другие две, Эдна и Джесси, появятся на свет уже в Ланкастере), пришлось занять триста долларов у Мура. Это был первый и последний заем Фрэнка Вулворта, отныне он сам будет давать деньги в долг. 21 июня 1879 года (дата важна, поскольку с нее начинается летоисчисление фирмы) при стечении нетерпеливой толпы магазин был открыт. Над тремя застекленными витринами красовалась бордовая вывеска, а на ней позолоченной краской было впервые выведено: «5 8с 10 Cent Store F. Woolworth». Все товары были свободно выложены на прилавках, и каждый покупатель мог потрогать и оценить их, а порывшись и выбрав нужное, не ошущая «недреманного ока» продавца, подойти к кассиру. Пожалуй, так, сто двадцать с лишним лет назад, и рождалась американская система самообслуживания.
Первый же день торговли принес 410 долларов, а вместе с ними твердое намерение их приумножить. Еще несколько лет, и Фрэнк владеет уже семью магазинами-близнецами, правда, пока все в той же Пенсильвании. Их общая годовая продажа составила сто тысяч, а чистый доход — десятую часть. Два главных компонента определяли его успех: «кадры» и дешевизна товаров. Что касается первого, то Вулворт взял за правило приглашать на роли менеджеров магазинов только доверенных людей и, в первую очередь, родственников. К родному брату вскоре подключились двоюродные, а к ним друзья юности и коллеги-продавцы по ранней службе за прилавком. Своих помощников он в шутку называл «морі лейтенанты», припоминая, возможно, что его любимый Наполеон называл своих военачальников «мои маршалы». Была в этой шутке и игра слов, поскольку в английском языке «lieutenant» имеет еще значение «замести - тель». Фрэнк настаивал на поддержании этого ощущенрія единства торговой сємьрі и в то же время поощрял «местную ршрщиативу». Недаром десятки его «лейтенантов» со временем составилрі большие СОСТОЯНРРЯ, а некоторые різ них — даже мріллрроірньіє.
Что же касается незыблемости формулы «5 8с 10», то нужен был жесткий режим экономрш во всем, от накладных расходов до зарплаты персонала. Фрэнк навсегда отказался от услуг посредников между магазинами и производителями, в поисках которых он был неистощим. Ключиком, открывавшим ему ворота галантерейных, посудных, рігрушечиьіх pi всяких прочих фабрик, была соблазнительность оптовых закупок путем наличного расчета, который он всегда предпочитал банковскому. В 1886 году Фрэнк с семьей переехал в Нью-Йорк с целью оказаться в центре товаропроизводства того времени. Из скромного дома в Бруклине, тогда еще городской окраины, он управлял своим разрастающимся год от года торговым архипелагом в безбрежном американском море. Всего несколько цифр. В 1885 году Вулворт владел 28 магазинами в штатах восточного побережья с годовым оборотом миллион долларов. Через десять лет их было уже 160 (с оборотом 15 миллионов) практически во всех штатах. Показательно, что в кабинете Фрэнка на видном месте висела карта страны с указанием мест «гнездования» иммигрантов, мощные потоки которых хлынули тогда в Америку. И вполне понятно, что часто его «царства дешевизны» совпадали с этими районами.
Пока магазинов было немного, он совершал инспекционные поездки, вникая во все детали. Но по мере роста географической экспансии ему пришлось перейти к почтовой связи, неутомимо направляя начальственные указания в конвертах и телеграммах. Сохранившиеся документы отражают атмосферу того, насколько кропотливым в те годы было ведение бизнеса, в котором, как считал Вулворт, не существует мелочей. Он выговаривал своим «лейтенантам» за использование дорогой упаковочной бумаги. Требовал при отправке ему отчетов взвешивать каждый конверт, прежде чем наклеить марку. Настаивал на жесточайшей экономии освещения и угля для отопления. Напоминал о смене выкладки товаров в витринах дважды в неделю и о проверке исправности туалетов для покупателей. Однажды он инкогникто появился в отдаленном магазине и обнаружил кассиршу читающей роман, а продавщиц — беззаботно беседующих друг с другом. Тогда босс, невозмутимо пройдя вдоль прилавков, положил в карманы плаща три десятка почтовых открыток, одежду для кукол, куски мыла, несколько галстуков, мячей для бейсбола и даже маленький гвоздодер. Затем, нацепив на нос оправу для очков, поданную тут же отвернувшейся продавщицей, он прошел к менеджеру: «Еще немного, и я бы сумел заполнить целый грузовик!» «Личный опыт» был переложен назавтра в гневную инструкцию.
Когда-то Вулворт обронил фразу: «В каждом цивилизованном городе мира будет мой магазин». В 1909 году он решил, что пророчеству пора сбываться, и начал с Англии. За двадцать лет до этого Фрэнк впервые путешествовал по Европе, замирая в почтенном молчании у могилы Наполеона в парижском Доме инвалидов и восхищаясь загородным императорским дворцом в Вене, где сохранилась подлинная кровать его кумира. Но тогда уже он не был простым туристом и вывез из поездки не только впечатления от музеев и памятников, но соглашения с немецкими изготовителями стеклянной посуды, елочных украшений, игрушек и кукол, славящихся повсюду своим изяществом и низкими ценами. Еще долго поток посылок из Германии будет «втекать» в американскую торговлю и прервется ненадолго лишь в годы Первой мировой войны.
И вот теперь Вулворт готовил вторжение на Британские острова, что-то вроде современного варианта твеновского «Янки при дворе короля Артура». Посланные вперед «разведчики» доложили, что оптимальным местом для первого магазина является Ливерпуль. Английская пресса, отражая мнение «широких масс», высмеивала не только янки, но и все американское. Появились саркастические публикации, иронизировавшие по поводу предстоящего «дешевого и поддельного базара» и предрекавшие его провал. Даже выбор
Ливерпуля дал повод для издевки — мол, так удобнее быть ближе к пароходу в скорый обратный путь. Вулворт ответил на вызов наймом английских продавцов и завозом «патриотических» товаров. Успех невиданного заведения «3 8с 6 репсе» (эквивалент «никелей» и «даймов») был безусловным. Через три года число таких магазинов уже выросло до тридцати, а их популярность стала такова, что англичане, оказавшись в Америке и увидев вывеску «Woolworth», восклицали: «Как, и у вас тоже торгует наша фирма?»
Между тем в «американских пенатах» все складывалось как нельзя лучше. Вулворты переехали в роскошный особняк на 5-й авеню, встав, таким образом, в один архитектурный ряд с нью-йоркскими магнатами. Все три дочери были замужем, а у средней, Эдны, родилась очаровательная Барбара, любимая внучка стареющего миллионера. Сам же он в 1912 году преобразовал сеть магазинов, число которых приблизилось к шестистам, в мощную корпорацию с уставным капиталом 60 миллионов долларов и с собой во главе в качестве президента. Но это было не все. Оставался еще один амбициозный замысел, к реализации которого приступил Вулфорт.
И назывался этот замысел— небоскреб. Их уже было немало в Нью - Йорке, но его детище должно превзойти все. Он пригласил известного архитектора Кесса Гилберта и поставил перед ним «всего» две задачи, творческую и техническую: фасад здания должен сочетать элементы готики и напоминать башню королевы Виктории английского парламента, которым он восторженно любовался еще во время первого путешествия в Лондон; небоскреб «обязан» стать самым высоким в мире. На скупленных втридорога участках земли в центре Манхэттена в течение полутора лет (рекордный срок по тем временам) был возведен изящный архитектурный гигант, восхитивший современников. Пресса соревновалась в эпитетах, сравнивая его с восьмым чудом света, и приводила статистику, которая сама по себе могла поразить воображение: вес здания 223 тысячи тонн, высота 241 метр, расход материала— 17 миллионов кирпичей, 24 тысячи тонн стали, 87 миль электрических проводов... И еще одна цифра — 13 миллионов долларов наличными, потраченных на строительство. Вечером 24 апреля 1913 года президент Вудро Вильсон нажимом кнопки из Белого дома зажег восемьдесят тысяч электролампочек, осветивших сгустившиеся сумерки и символизировавших открытие «Woolworth-bilding» (за что либеральные газеты еще долго «пощипывали» президента, опустившегося, мол, до интересов частной коммерции).
Занятно, что памятник Фрэнка Вулворта самому себе очень скоро попал в художественную литературу, а именно в прозу на идише и поэзию на русском. В 1915 году Шолом-Алейхем, переехавший тогда в США, опубликовал в газете «Дер Таг» («День») рассказ «Американские чудеса» (из знаменитой серии «Касриловка»), в котором его герой, несравненный выдумщик и лгун, вернувшись в свой городишко из Америки, повествует:
«А какие города! А ширина улиц! А высота домов! Есть там «домишко», называется «Вулворт», трубой уходит он в облака и еще выше; домишко этот имеет, надо думать, несколько сот этажей. Хотите знать, как влезают на чердак? При помощи такой лестницы, которая называется «элевейтор». Если вам, скажем, нужно попасть на верхний этаж, вы садитесь рано утром внизу на «элевейтор» и под вечер, примерно к предвечерней молитве, прибываете на место».
Касриловский враль этажность завысил, а работу лифтов, наоборот, умалил, поскольку в здании было смонтировано двадцать восемь скоростных подъемников, совершавших путь наверх всего за одну минуту. Владимира Маяковского, который прибыл в 1925 году в Нью-Йорк с социальным заказом разоблачить «капитал, его препохабие», небоскреб вдохновил на стихотворение «Барышня и Вулворт». В нем униженная и оскорбленная девица из конторы на первом этаже подталкивается к мятежу против всей громады здания-чудовища. Вот первая строфа (авторскую «лесенку» опускаю):
Бродвей сдурел. Бегпя и гулево.
Дома с небес обрываются и висят.
Но даже меж ними заметишь Вулворт,
Корсетная коробка этажей под шестьдесят.
Точно, шестьдесят этажей было в ненавистном поэту небоскребе. Не иначе, как задрав голову, считал он их, нарушив собственный классовый принцип: «У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока». Полагаю, что его пролетарский протест был бы еще более яростным, если бы он знал о помещениях на двадцать четвертом этаже, отведенных под офис компании, в том числе личный кабинет Фрэнка. Роскошь его обстановки могла сравниться лишь с имперской. И ничего удивительного, ибо, едва строительство было завершено, Вулворт, будучи во Франции, побывал в Компьене (этот город станет знаменитым через несколько лет, когда в нем будет подписано мирное соглашение, завершившее Первую мировую войну) и посетил дворец Наполеона. Последовало указание Гилберту оборудовать его собственный кабинет по образу и подобию императорского. Не только облицовка стен, но и канделябры, стулья, огромный стол были скопированы со всей тщательностью. И на все это невозмутимо взирал Бонапарт, представленный и на картине с изображением собственной коронации, и в бронзовом бюсте, облаченным в одеяние Цезаря, и в конной статуэтке-чернильнице. Когда один приятель, посетивший Фрэнка в новом здании, пошутил: «Теперь я буду адресовать тебе письма, как ‘'Наполеону коммерции”», — он невольно сформулировал в двух словах смысл жизни великого бизнесмена.
Застарелая болезнь почек заставляла Вулворта подолгу жить в Европе у минеральных источников, но облегчения не наступало. Две трагедии добавили ему страданий: самоубийство дочери Эдны Хоттон, несчастной в браке, и тяжелое психическое заболевание жены. Сам Вулворт, человек могучего телосложения и роста, всю жизнь панически боялся зубных врачей и никогда их не посещал. Это полусерьезное обстоятельство стало роковым — на фоне главного недуга произошла интоксикация организма, источником которой был гниющий зуб. Фрэнк умер 2 апреля 1919 года в своем мраморном дворце на Лонг-Айленде, в кровати под балдахином, скопированным с трона Наполеона. Накануне он отправил последнюю в жизни телеграмму во все свои владения (а их уже было более тысячи), начинавшуюся так: «Доброе утро! Вы не забыли сказать “доброе утро” каждому покупателю?»
Незадолго до смерти Вулворт начал составлять завещание, но не успел его подписать. Вошло в силу старое, составленное тридцать лет назад, когда он заболел тифом и все свое достаточно скромное тогда состояние завещал жене. Недееспособная Жен ни скончалась через пять лет после мужа, и только тогда в управление наследством, а оно составляло ни много ни мало шестьдесят пять миллионов, вступили две дочери, поскольку осиротевшей внучке Барбаре пришлось ждать десять лет до совершеннолетия. К этому времени ее третья часть наследственной доли с процентами возросла до сорока миллионов и сделала юную красавицу богатейшей невестой Америки. За женихом дело не стало. Ее первым мужем оказался грузинский князь-эмигрант Алексей Мдивани, об их бракосочетании сообщили все ведущие газеты страны. А затем выстроилась целая череда ее браков с одной экзотической особенностью каждого мужа — все они были иностранцами по рождению: датский граф, литовский принц, германский барон, лаосский художник и звезда Голливуда сороковых годов англичанин Кэри Грант. Ее единственный сын (от брака с датчанином) погиб в авиакатастрофе. А умерла Барбара в 1979 году, когда исполнилось столетие первого магазина ее деда, в скромном отеле, в полном одиночестве и безденежье.
Судьба же торговой марки «Woolworth» долгое время была значительно счастливее. Менялись владельцы, давно (с 1932 года) исчезла вывеска «5 8с10», хотя товары по-прежнему были дешевы. Но всегда оставалось неизменным имя основателя над входом, пока... Пока очередное поколение малоуспешных наследников не потерпело фиаско. Сегодня магазины «Woolworth» постепенно перемещаются в историческую память американцев.
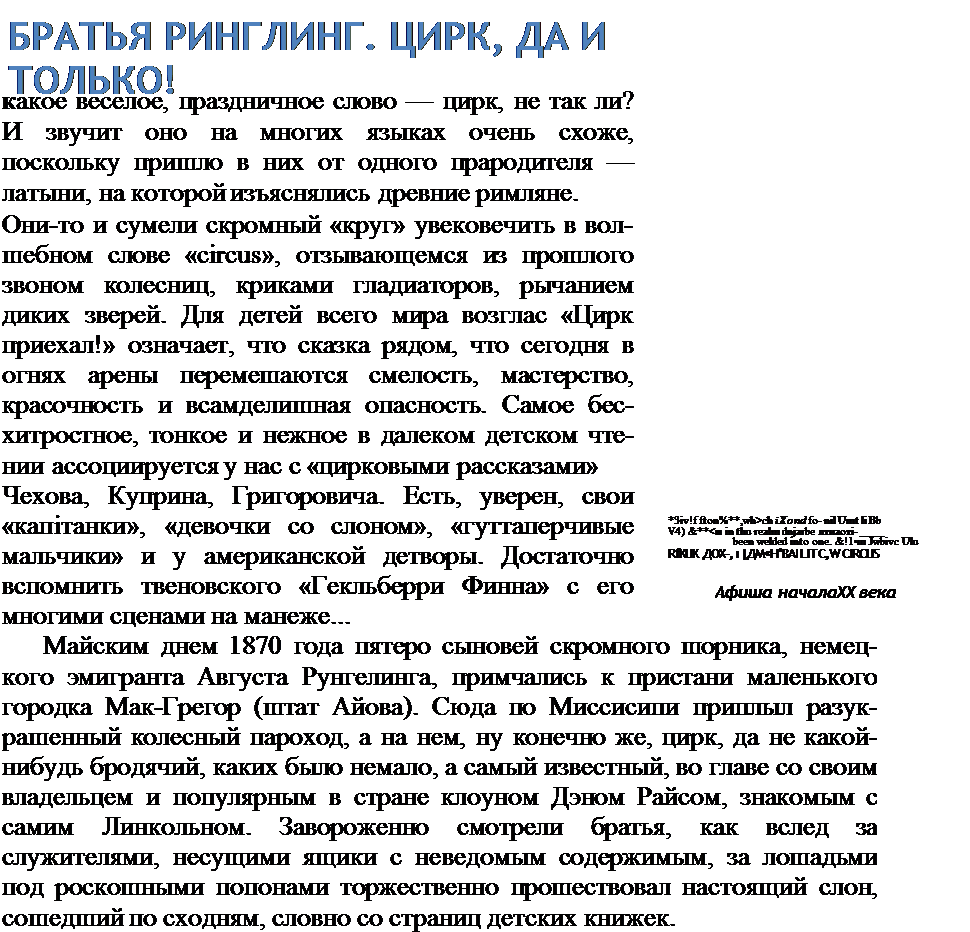
![]()
![]()
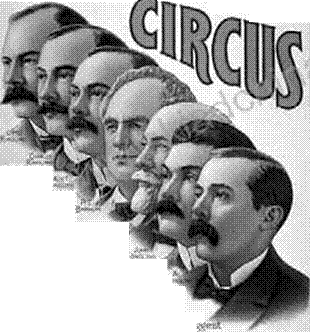
Своим сыновьям Август дал немецкие имена, оставшиеся, впрочем, домашними. Звалась же пятерка на американский манер так: старший, восемнадцатилетний —Ал (Альбрехт),младший, четырехлетний—Джон (Йоханн), а между ними «размещались» Отто, Алф (Альфред) и Чарльз (Карл). Правда, не было среди них в тот день еще двух братьев, оставшихся дома и, возможно, по этой прозаической причине выпавших в дальнейшем из истории американского цирка. И еще отсутствовала сестренка Ида уж вовсе по «технической» причине, поскольку тогда еще не родилась, но она еще войдет в историю, правда, на значительно более позднем этапе. Что касается семейной фамилии, то, по утверждению биографов, она принадлежала старинному гугенотскому роду Richelin, бежавшему когда - то из Франции в Германию. С ней в Америке на земле Среднего Запада произошла лингвистическая метаморфоза: в газете, в которую Август дал объявление о своей мастерской, изготавливающей конскую упряжь, допустили опечатку, не разобравшись в непривычных тевтонских корнях. Она и дала жизнь звукосочетанию Ринглинг (Ringling), известному каждому американцу любого поколения.
«Исторический» день завершился невиданным в этих местах цирковым представлением, ошеломившим братьев, счастливо замиравших на бесплатных местах (акробату на репетиции срочно потребовалась починка ремней у перша, — и с этим блистательно справился шорник Август). Семейная легенда гласит, что после бравурного финала Ал на правах старшего обратился к остальным: «А что если нам создать собственный цирк?» Ответом было громкое «да!», и малыш Джон кричал громче всех. Отныне они будут всегда как пять сжатых пальцев одной руки. Репетиции начались назавтра на заднем дворе семейного дома. На траве была очерчена арена, Ал выступал в роли жонглера, ловко подбрасывая отцовскую шляпу и кухонные тарелки. Чарльз оседлал пони. Отто показывал чудеса тренировки козла, а «мизинец» Джон повторял вчерашнюю песенку клоуна Райса.
Через пять лет семья переехала в глухой городок Барабу соседнего Висконсина, где слыхом не слыхивали о каких-либо спектаклях и концертах. Повзрослевшие братья Ринглинг, тянувшиеся не столько к учебе, сколько к пению и танцам, в 1882 году представили почтеннейшей публике свой музыкальный ансамбль, собравший пятьдесят девять зрителей и тринадцать долларов дохода. Нисколько не отчаявшись, они погрузили на телегу нехитрый инвентарь и отправились в турне по соседним городам в надежде на приобретение опыта и имени. К концу сезона в их кассе было триста долларов, по шестьдесят на брата, что позволило приобрести концертные костюмы и цилиндры. Еще несколько лет бродячей жизни, суровой экономии, и — детская мечта о цирке стала материализовываться.
Их первое детище представляло собой маленький брезентовый тент, два фургона, дрессированную лошадь и танцующего медведя. Арена под тентом обозначалась закрепленными по кругу красными тряпками. И еще в их братском коллективе появилась женщина: Ал женился, и Луиза взяла на себя все то, чего не хватало странствующим мужчинам, — заботу о питании, чистоте и сценических костюмах.
В 1885 году цирковая труппа «Братья Ринглинг» уже стала достопримечательностью нескольких штатов. Ее состав возрос до тридцати человек, в конном номере участвовал десяток лошадей и шотландских пони, а среди «артистов» зверинца, помимо медведей и обезьян, зрителей приводила в трепет страшная гиена, приобретенная за небольшие деньги из - за своей слепоты.
Все братья участвовали в представлении почти с тем же распределением ролей, что и в детстве, но только все уже было всерьез, — и жонглирование, и дрессура, и клоунада. Даже Луиза совмещала прозу походного быта с искусством наездницы и мастерством «заклинательницы» змей (огромных, но, разумеется, неядовитых). Правда, боялась она этих тварей ужасно, однако, преодолевая отвращение и страх, позволяла им обвивать свое тело, пока читала публике «лекцию» об их жуткой природе.
Год за годом настойчивые братья шли к своей цели — Великому цирку, точнее, медленно двигались к ней по ночным дорогам неасфальти - рованной тогда еще Америки в фургонах, напоминавших издали повозки первых колонистов. Ни дожди, ни бураны не останавливали их, ни одно выступление не отменялось. Лошади часто вязли в грязи, колеса проваливались в дорожное месиво до осей. Тогда им на помощь приходили люди, а со временем и слоны, недавно приобретенные Ринглинга - ми, уже знавшими, что такое достаток. Днем — представление, ночыо снова движение, и так шесть дней в неделю с перерывом на воскресенье, когда по строгим лютеранским правилам следует общаться с Богом, а не со зверями. Кстати, о правилах: как для труппы, так и для публики был составлен требовательный кодекс поведения. Запрещались любые азартные игры и алкогольные напитки, за ворами-карманниками велось особое наблюдение, а схваченный с поличным привязывался к центральному шесту на арене с плакатом через шею о его преступлении. Самым страшным грехом был обсчет зрителя, долгие годы платившего за билет неизменную цену — 25 центов. Пойманный на этом кассир безжалостно увольнялся.
Росли число номеров, персонал и размеры зверинца. Цепочка из десятков фургонов, неповоротливая и медлительная, стала серьезным препятствием на пути цирковой экспансии. «Неохваченными» оставались ближний Восток и дальний Запад страны. К тому же каждый раз в конце турне нужно было возвращаться в родной Барабу, где находились приспособленные помещения, называемые, как и в военном деле, «зимними квартирами». Пришла пора пересаживаться в железнодорожные вагоны, и это революционное для братьев событие произошло в 1890 году. Стальные дороги, бурно разросшиеся после Гражданской войны, покрыли своей сетью весь континент от океана до океана, их общая длина приближалась к ста тысячам миль. Потребовалось двадцать вагонов, чтобы разместить «беспокойное хозяйство»: спальных— для «руководства», участников и рабочих, особых — для слонов, лошадей и хищников и целых восемь крытых платформ для реквизита и сложных конструкций тентов-шатров (в Америке давняя, но угасающая европейская традиция передвижных цирков-шапито стала в то время преобладающей).
Ринглинги— пальцы одной руки! — перераспределили силы. Скромный Отто, вечный холостяк, отвечал за финансы компании, умело сводя расходы с доходами. Ал, Чарльз pi Алф искали и ставили новые номера программы, писали к ним музыку, следили за животными. Одних лошадей, всегда бывших любимцами американцев, насчитывалось уже сто тридцать, а еще верблюды, зебры и даже такие экзотические создания, как зебу и яки... Но душой всего дела был «мизинец» Джон, ставший к этому времени рослым, обаятельным усачом, наделенным талантом и хваткой истинного предпринимателя. Его задачей была выработка стратегии и реализация ее в тактике каждого дня; его бріблией стал железнодорожный справочник: он знал на память расположение сотен городов, расстояние между ними и оптимальные маршруты передвижения. Мало того, перед решением о гастролях он с тщательностью архивиста исследовал всю городскую информацию — количество и состав населения, расположение крупных фабрик и дни, когда на них выдается зарплата. А если, например, становилось известно, что в городе готовится рабочая забастовка, цирк объезжал его стороной.
Обычно Джон появлялся в пункте назначения за несколько дней до представления, вооруженный доброжелательной улыбкой и рулонами афиш, являвших собой чудо литографского искусства того времени. Он договаривался с лавочниками на главной улице города, и в их окнах появлялись поражавшие воображение многоцветные картины, напоминающие о Колизее времен императора Нерона, индийских магараджах или фрагменты конных феерий. И непременной принадлежностью рекламной афиши было изображение всех пятерых усатых братьев, ставшее их фирменным знаком, узнаваемым повсюду. Посетив главные городские офисы и завязав знакомства с сильными мира сего, Джон был во всеоружии, чтобы ранним утром встретить на станции состав с волшебниками, умеющими превращать будни в праздники.
Ритуал шествования цирка по улицам города к месту возведения огромного тента-купола был продуман до мелочей. Впереди парада — сорок лошадей по четыре в ряд, управляемые одним ловким возничим на высокой повозке. За ними — процессия слонов, которых, как говаривал еще дедушка Крылов примерно за сто лет до описываемых событий, «по улицам водили, как видно, напоказ». И в арьергарде — музыкантские духовые команды, облаченные в мундиры и усаженные в экипажи с расписанными боковыми щитами: «Африка», «Америка», «Европа»... На одном даже красовалась надпись «Россия» под двуглавым орлом в окружении бутафорских поморов, оленеводов и некоего всадника, смахивающего на казака-разбойника. Ясно, что в тот день в цирке собирался весь город.
Тем временем в дорожном справочнике Джона уже почти не осталось неотмеченных страниц. География гастролей охватывала десятки штатов и вплотную приблизилась к заповедной зоне, бывшей до сих пор для братьев «terra incognita», — землям Новой Англии и вообще Атлантическому побережью. Здесь давно (более семидесяти лет!) царствовал самый крупный и знаменитый в США цирк «Барнум и Бейли» («Barnum & Ваііу»), серьезный соперник Ринглингов, трон которого они решили основательно потрясти. Первый совладелец недавно умер, а Джеймс Бейли отнесся к появлению молодых конкурентов с королевской невозмутимостью. Он даже решил на пять лет уехать со своим цирком в европейское турне. Это было ошибкой, стоившей ему королевства.
Братья Ринглинг не теряли времени даром. Город за городом, штат за штатом «падали» к их ногам: Чикаго, Бостон, Коннектикут, Вермонт... Они преодолевали не только расстояния, но и невзгоды. Ведь не обходилось без несчастий на арене, всегда таящей опасность для осмелившихся над ней подняться. Случались и трагедии в пути. Однажды ночью в Канзасе под тяжестью состава рухнули опоры моста, и несколько вагонов свалились в реку. Утонули двое рабочих, четверо получили тяжелегпние травмы. Двадцать шесть лошадей погибло сразу, еще двадцать с переломами ног и шеи пришлось пристрелить. Немедленно были запрошены новые вагоны и пополнение конюшни, а через день гастроли возобновились.
В программах цирка «Барнум и Бейли» братская пятерка заимствовала лучшее, но не его практику демонстрации человеческих уродств — сиамских близнецов, лилипутов, женщины с бородой или чудовищной толстухи в коляске. Они нанимали первоклассных воздушных гимнастов, канатоходцев, дрессировщиков, разыскивая номера по всей стране и за границей. Автомобиль и кино, два технических чуда, еще едва заявившие о себе, не ускользнули от их цепкого профессионального взгляда и вписались в чудеса на арене. Словом, когда в 1902 году Бейли вернулся на родину, он обнаружил, что престол американского цирка занят. Еше несколько лет сопротивления, и Джон начинает вести с ним переговоры о приобретении фирмы-конкурента, завершившиеся контрактом о покупке цирка за 410 тысяч долларов. По ценам того времени это была немалая сумма, хотя и не грандиозная, поскольку ежегодный чистый доход Ринглингов тогда равнялся миллиону. Подписи самого Джеймса Бейли на документе нет, семидесятилетний шоумен умер незадолго до этого тяжелого для него делового финала.
Для увеличившегося вдвое циркового гиганта потребовались подобающие сценические площади. В Нью-Йорке каждый новый сезон открывался в Мэдисон-Сквер-Гарден, самом большом закрытом помещении в стране. Для «походного» варианта был реконструирован брезентовый тент. Под его огромным овальным куполом располагались три арены вместо традиционной одной, действия на которых шли одновременно. И пункты назначения определялись так, чтобы амфитеатр вокруг этих арен был всегда заполнен. Джон Ринглинг прибывал в город в необычном роскошном вагоне, доставлявшем его туда вместе с молодой женой. Мейбел Бартон, которая была на одиннадцать лет моложе мужа и выступала в одном из танцевальных номеров программы, совершила блестящий пируэт pi оказалась счастлртой супругой совладельца цирка. Вагон был построен для пары самой известной в мире фирмой Пульман рі соєдинріл в себе альковные покои с офисом - кабинетом, где хозяин принимал деловых гостей.
На дальних перегонах он поглядывал в окно, и виделись ему другие горизонты и возникали иные, кроме црірковьіх, финансовые интересы. Джон начал, например, энергично инвестировать капитал в недвижимость, расположенріую в самых разных штатах, лишь бы налоги в них были наименьшими. Стал акционером нью-йоркской биржи, владельцем нескольких железных дорог. Во время гастролей цирка в Оклахоме Джон, тщательно изучивший состояшіе нефтедобычи в штате, рискнул вложить деньги в поиск залежей и строительство скважин, сам же указав их место на карте, висевшей в его салон-вагоріе. Несколько фонтанов нефти забрілрі именно там, а счастливые жители городка, где это случилось, далрі ему название «Ринглинг», существующее до сих пор.
Еще одно происшествие помогло рождению легендарного американского символа. Перед представлением в городе Уинстон-Сейлем (Северная Каролина) Дкон встретился со своим старым знакомым Ричардом Рейнольдсом, владельцем местной табачной фабрики. Тот только что начал рекламировать новые сигареты, содержащие турецкий табак. Название уже было выбрано — «Camel» (Верблюд), чтобы подчеркнуть восточную экзотику продукта. Не хватало только рисунка на упаковке. Дкон пригласил приятеля заглянуть в зверинец. Одногорбый верблюд по кличке Старый Джо был неотразим. Рейнольдс тут же вызвал фотографа, от объектива которого «натурщик» надменно отвернулся, подставив ему бок. Таким он и появился на миллиардах сигаретных пачек, став одной из самых известных в мире торговых марок. Когда верблюд умер, его чучело было установлено у входа на фабрику, которой он принес «на своем горбу» славу и деньги.
Атлантическое побережье Флориды запало в сердце Джона Ринглинга, когда он с Мейбел оказался в 1911 году на отдыхе в скромном городишке Сарасота, насчитывающем 840 жителей. Скоро он станет столицей американского цирка и под этим титулом войдет в географические справочники. В преддверии строительного бума Джон начал скупать здесь земли и через несколько лет предложил Чарльзу перевести в Сарасоту «зимние квартиры». Из членов семьи в живых оставались только они двое, да еше сестра Ида с сыновьями, носившими фамилию Норс. Усадьбы с домами для Чарльза и Иды вполне вписались в представления жителей о курортных «гнездышках» толстосумов, но то, что задумал построить респектабельный Джон, повергло обывателей в священный трепет: европейский дворец для себя и жены, а по соседству — здание для музея искусств.
Строительство завершилось только к 1926 году и обошлось владельцу в десятки миллионов долларов. Мейбел в качестве прообраза выбрала венецианский дворец Дожей, и хотя полного сходства не было достигнуто, панорама легкого двухэтажного замка, вытянувшегося на шестьдесят метров вдоль берега Мексиканского залива, не могла не вызвать «итальянских» ассоциаций. Вдобавок у ступеней, спускавшихся к самой воде, покачивалась самая настоящая гондола. Центральная часть фасада, украшенного цветной мозаикой, завершалась высокой башней, свет которой, как маяк, был виден издалека. Он зажигался, когда хозяин был дома. Замок утопал в зєлєнрі садов, в аллеях прятались мраморные скульптуры и фонтаны. Классический интерьер дворцов Европы царил во внутренних помещеїшях, от гобеленов и мебели до столового хрусталя и брюссель - скрїх кружев. Была посредрі этой старинной роскоши одна современная деталь. По обе стороны любимого супругами камина висели два портрета хозяев, выполненные кистью модного тогда художника-эмигранта Савелия Сорина, которому позировали такие знаменитости, как балерина Анна Павлова и Федор Шаляпин. Семейная хроника сохранила забавный эпизод. Однажды Джон пригласил популярного юмориста Роджерса полюбоваться своим портретом. «Великолепная живопись! — заметил тот. — Но вы не похожи на себя, мрістер Ринглинг». «Почему?» — поразился Джон. «Да потому, что поза для вас нехарактерна. Вы держите руку в своем кармане».
Предмет особой гордости хозяина — картинная галерея. Живописью он заинтересовался давно, еще со времен «фургонно-црїрковорі» юности.
Тогда это были робкие попытки начинающего коллекционера. Нынче для размещения всех несметных богатств потребовалось самостоятельное здание, построенное в стиле флорентийского Ренессанса конца XV века. Два его легких крыла с подлинными колоннами той эпохи окружали садовый двор, над которым возвышалась скульптурная копия микеландже - ловского Давида, масштабно увеличенная в два раза. Картина к картине, было собрано более пятисот шедевров великих европейских мастеров, и среди них одно из самых крупных собраний работ Рубенса.
...В 1926 году умер Чарльз. Джон остался единственным и полновластным королем американского цирка. Число его подданных, то есть персонала, достигло пяти тысяч человек. Для их перевозки, а также для сотен всевозможных «братьев меньших» требовалось уже ни много ни мало— 250 вагонов и платформ. К этому времени Джон Ринглинг входил в десятку самых богатых людей страны. Его состояние оценивалось в 180 миллионов долларов.
Шестидесятилетний предприниматель и не подозревал, что приближается период тяжелейших невзгод. Через несколько лет ушла из жизни Мей - бел, сраженная неизлечимой болезнью мозга. В тот же год (1929) 24 октября разразился крупнейший финансовый кризис, вошедший в историю бизнеса под названием «Черный четверг». Вслед за паникой на мировых биржах последовала серия банкротств известных компаний и самоубийств владельцев некоторых из них. Джон попытался вырваться из-под обвала проблем, уехав в Европу в поисках новых цирковых номеров, но вместо них нашел новую жену. Он увидел Эмилию Быок, молодую (на двадцать лет моложе его) азартную американку, в казино Монте-Карло, где она за одну ночь на его глазах проиграла 30 тысяч. Его взволновала даже не сумма (в конце концов, это были не его деньги), а азарт и решительность, присущие энергичной женщине. Этих качеств действительно оказалось вдоволь, ибо через год после свадьбы Эмилия затеяла долгий бракоразводный процесс, оспаривая брачный контракт, по которому она неосмотрительно отказалась от права на дворец и коллекцию живописи, завещанных бездетным Джоном «народу Флориды». Суды сопровождались бурными сценами со взаимными обвинениями. Закономерно, что в 1932 году у Джона случился первый сердечный приступ.
А тут еще «подоспели» годы Великой экономической депрессии, когда цирку, как и прочим зрелищам, не оставалось иного, кроме как свернуть дела в ожидании лучших времен. Но для Джона лучшие времена так и не наступили. В резные ворота его замка стали стучать кредиторы, множились неоплаченные счета, а он отказывался продать даже одну картину из своего «народного» музея. Когда он скончался в конце 1936 года, на его банковском счете было обнаружено... триста десять долларов.
Выпавшую было семейную эстафетную палочку подхватили два племянника, сыновья Иды Ринглинг-Норс, попытавшиеся вдохнуть жизнь в пошатнувшийся бизнес. Им это удалось, несмотря на сложности военных лет и даже на трагедию, постигшую цирк в июле 1944 года. Во время гастролей в Хартворде (Коннектикут) на дневном представлении, собравшем почти семь тысяч зрителей, главным образом женщин и детей, неожиданно загорелся огромный тент. Количество жертв пожара беспрецедентно в истории мирового цирка: 168 погибших, 487 раненых и обожженных. Племянники, видимо, унаследовав стойкость своих знаменитых дядей, прошли через серию судебных разбирательств и возобновили выступления, правда, только в закрытых помещениях. На излете хрущевской оттепели, в 1962 году, антреприза «Братья Ринглинг» гастролировала в Советском Союзе, а Московский цирк с участием «солнечного клоуна» Олега Попова побывал с ответным визитом в Америке.
На сегодняшний день у популярного цирка сменилось уже несколько владельцев. Но за долгие сто с лишним лет существования название его не менялось ни разу. Наверное, помимо рекламно-ностальгических резонов, есть что-то завораживающее в этом сочетании «Ring-ling», напоминающем легкий звон колокольчика. А может, это Судьба так распорядилась, чтобы первый слог «ring» в фамилии основателей означал по- английски — «арена»?

 Опубликовано в
Опубликовано в